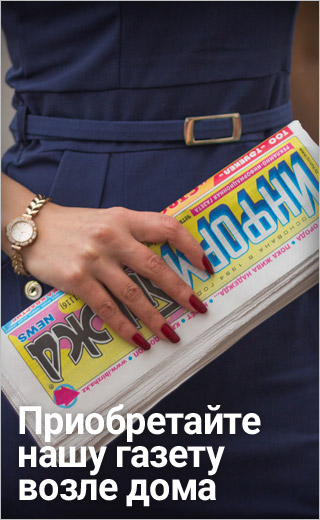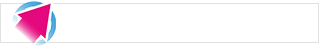В небе и на земле
(Окончание. Начало в № 25)
 Крыльев лишить нельзя
Крыльев лишить нельзя
Но в 1949 году Сталин издал указ – всех пилотов, побывавших в плену, лишить возможности летать. Для Коробкова это было ударом. Он писал Сталину, Швернику, доказывал, но ответа не дождался. Тогда сам поехал в Москву. Ему предложили работу в аэропорту. И через год ему вернули удостоверение пилота.
Все эти годы Коробков продолжал добиваться восстановления в партии, писал Хрущеву, ездил в Москву на прием к первым секретарям и добился, чтобы ему вернули партбилет.
А потом еще много лет добивался восстановления партийного стажа. Напрасно жена уговаривала его не тратить попусту время и нервы.
– У него – характер, – со значением говорит она.
Этот характер не позволял ему давать поблажек никому: ни себе, ни даже собственному сыну, который тоже стал летчиком. За какую-то провинность он наложил на него более строгое взыскание, чем тот заслуживал, чего тот отцу не простил. И это было самой большой их родительской болью.
Это случилось уже после того, как Коробкова в 1962 году назначили начальником аэропорта Уральска. Правда, взлетную полосу, способную принимать только легкие самолеты, назвать аэропортом можно было только с натяжкой. И Михаил Евстафьевич сразу стал добиваться строительства нового аэропорта. Сегодня мало кто знает, что аэропорт в районе Подстепного – детище Михаила Коробкова.
– Мы его тогда дома почти не видели, – вспоминает Александра Тимофеевна, жена Михаила Евстафьевича. – Однажды я его спросила, нельзя ли там у них купить стекла для дачи, ведь туда стройматериалы привозят, а с ними в то время был дефицит. Он просто рассвирепел: «Ты что, с ума сошла?! Нам самим не хватает!»
Это «нам», то есть аэропорту, многое говорит о характере Коробкова.
В 1973 году новый аэропорт уже принимал самолеты.
Историю аэропорта, людей, которые создали его славу и гордость, Михаил Коробков изложил в своей книге «Земля и небо Приуралья». Материал для этой книги он собирал много лет. Там десятки имен летчиков, техников, – всех, кто создавал авиацию Приуралья. И ничего о себе.
Практически ослепший, он продолжал переписку с военными историками и летчиками; его имя упоминается в книгах генералов авиации. Не раз они специально приземлялись в Уральске, чтобы встретиться и поговорить с Коробковым.
– Со многими из них он учился вместе, воевал, теперь уж никого не осталось, – делилась Александра Тимофеевна. – С Сергеем Долгушиным, генералом авиации, Героем Советского Союза, всю ночь проговорили; Виталий Рыбалко здесь тоже останавливался. Они ведь в начале войны все были молоденькими лейтенантиками, а стали генералами.
Александра Тимофеевна уверена: ее муж тоже стал бы генералом и получил звезду Героя, если бы не плен. И только сам Михаил Евстафьевич ни разу не высказал обиды: на Родину, как на мать, не обижаются.
Неожиданный подарок
В прошлом году от московских поисковиков он получил неожиданный подарок: вместе с книгами ему передали фотографию и письмо на незнакомом языке. На этой фотографии юный летчик Коробков стоит в окружении людей в военной форме — не советской и не немецкой.
– Я сначала думала, что написано на немецком. Пригласила приятельницу – она в школе немецкий язык преподавала, – а оказалось, что это не немецкий, а то ли испанский, то ли итальянский, – рассказывает Александра Тимофеевна, жена Михаила Коробкова. – Эту фотографию поисковикам из Испании прислал сын того летчика. Написал, что отец всю жизнь переживал из-за того, что сбил русского и не знал, остался ли он жив в немецком плену: «Как бы отец был рад узнать, что этот летчик жив! Жаль, что он не дожил до этого дня».
Михаил Евстафьевич фотографию показал, но публиковать ее отказался категорически: «Это мое, личное». И добавил, что это самое неприятное воспоминание в его жизни. На вопрос, было ли ему в тот момент страшно, ответил: «Я хотел сохранить достоинство».
По его мнению, фотографировали его «для пропаганды», для доказательства немцам – что сбили.
Наши лётчики на фронте
В своей книге Михаил Коробков особенно подробно рассказывает об уральских летчиках, воевавших в годы Великой Отечественной войны.
Первыми на фронт на самолетах У-2 улетели пилоты Лобачев, Улыбин, Фетисов. К сентябрю 1941 года весь личный состав 288 авиаотряда убыл из Уральска на фронт.
В боях под Москвой отличились пилоты-уральцы Сафонов, Хасаев, Улыбин. Они были награждены орденом Красной Звезды. Уральский летчик Улыбин, доставляя боеприпасы окруженной 380-й армии, был атакован фашистскими истребителями и ранен. Но он дошел до цели и выгрузил боеприпасы и медикаменты. Сам от медицинской помощи отказался: бинты и лекарства больше нужны окруженным. Обратно на базу он довел свой изрешеченный пулями самолет, уже теряя сознание. С пустым баком, планируя, он все-таки посадил машину.
Командиру эскадрильи 33-й Гвардейской авиационной десантной дивизии майору Крюкову (бывшему командиру Уральской эскадрильи) в 1944 году присвоено звание Героя Советского Союза.
Наша область была единственной в Казахстане, куда долетели фашистские бомбы, сброшенные с самолетов. В Урде базировалась авиачасть, где ремонтировали поврежденные в боях самолеты. В Красный Кут эвакуировали Качинскую военную школу. Однажды инструктор этой школы Гудков на самолете Як-1 вылетел на перехват фашистского бомбардировщика, который летел в сторону Урды. Гудков не имел боевого опыта, но очень хотел остановить бомбардировщика. Он подошел вплотную и ударил своим самолетом по фюзеляжу «Юнкерса». От удара Гудкова выбросило из самолета. Он успел раскрыть парашют. Немецкий самолет не сбросил бомбы на казахстанскую землю, сам упал в нее. Позже на фронте Гудков получил звание Героя Советского Союза, его имя значится в списке почетных граждан Уральска.
Михаилу Евстафьевичу в апреле исполнилось 96 лет. Несмотря на то, что уже почти не встает, он до сих пор интересуется жизнью Уральского аэропорта. Михаил Евстафьевич почти совсем ослеп, и газеты ему читает жена – Александра Тимофеевна, которая рядом с ним уже 70 лет.