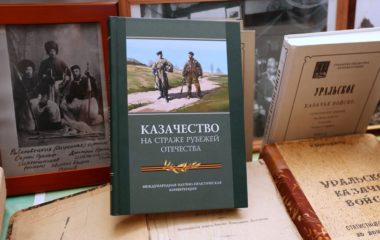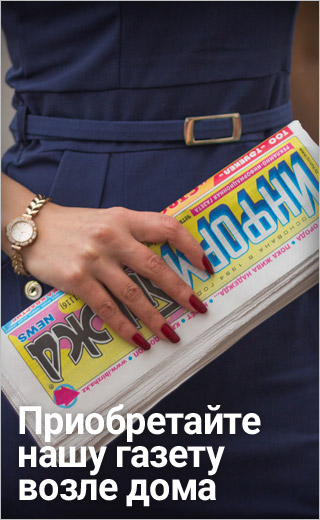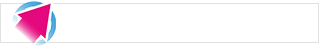Смертельная удавка
Когда говорят о голоде 1921-1922 годов, то обычно упоминают Поволжье, почему-то забывая при этом Приуралье. Хотя, учитывая процентное соотношение, можно сказать, что здесь размеры трагедии были не меньше. Причиной страшного голода в нашем крае обычно называют многолетний вывоз продовольствия отсюда. Но это одна из составляющих трагедии. Второй были засухи, которые на протяжении ряда лет изнуряли население. Итак, обо всём по порядку.
Уже в начале августа 1920 года стало ясно, что на территории Уральской губернии будет неурожай зерновых. Губпродком в срочном порядке стал выяснять наличность семенного материала для предстоящего озимого сева, а также для выяснения возможностей по выполнению заданий по продразверстке. Для этой цели во все исполкомы, земколлективы, губотнаробы и комячейки были разосланы специальные циркуляры. Одновременно, с этой же целью выяснялась и наличность по всей губернии продовольственного зерна.
Надо сказать, что на протяжении длительного времени губернский центр не имел сведений – не только точных, а вообще никаких – о состоянии многих дел на местах. Особенно из отдаленного и обширного Гурьевского уезда, который присылал различные отчеты от случая к случаю.
По приблизительному подсчету губпродкома, в Уральском уезде имелись «излишки»: пшеницы – 25 тысяч пудов, ржи – 109 тысяч, проса – 20 тысяч, в Святодуховском районе имелось 30 тысяч пудов «лишней» пшеницы. Кроме этого, в этих же районах имелось еще необмолоченного хлеба около 150 тысяч пудов. Надо полагать, во время предстоящей продразверстки губпродком рассчитывал, в первую очередь, на эти «излишки».
В связи с засухой среди населения стали распространяться упорные слухи о том, что принято решение о запрещении вывоза хлеба из Уральской губернии. Дело дошло до того, что газета «Красный Урал» (№ 123 от 7 августа 1920 года) вынуждена была поместить заметку с опровержением этих слухов.
Но не прошло и двух недель, как Уральский ревком уже «рассматривал телеграмму Ленина и Наркомпрода» о выполнении Уральским губпродкомом наряда на вывоз из Уральской губернии хлеба. По докладу губпродкомиссариата в Уральском и Лбищенском уездах (надо полагать, по остальным уездам данных у губернских властей опять-таки не было) в 1920 году было засеяно 169 597 каз. дес. При урожае в 20 пудов губпродкомиссариат исчислял валовой сбор зерна в 3 391 940 пудов, в то время как потребность губернии в продовольственном, семенном и фуражном зерне определялась в количестве 7 442 329 пудов. Таким образом, в 1920 году губерния обеспечила себя зерном только на 50%. Исходя из этого, Уральский ревком решил поддержать ходатайство губпродкома перед Наркомпродом о снятии с Уральской губернии наряда на вывоз хлеба, а местным органам было рекомендовано принять меры к равномерному распределению хлеба среди населения «с расчетом продержаться до урожая 1921 года».
Но «Ленин и Наркомпрод» не прислушались к расчетам Уральского ревкома.
По нарядам Наркомпрода одного только мяса в Уральской губернии необходимо было заготовить 435 997 пудов, из них мяса крупного рогатого скота – 280 280 пудов, мелкого скота – 150 909 пудов и свинины – 4 808 пудов.
В одном только Илекском уезде (вместе с ранее полученными нарядами) с 24 марта по 1 ноября 1920 года заготовлено 7262 головы крупного рогатого скота (70 126 п.10 ф.), баранов – 2036 голов (5 350 п. 30 ф.), молока 307 пудов, яиц 39 501 шт., картофеля 250 пудов, с 23 по 31 октября – 13 915 пудов пшеницы, проса – 2 942 пуда, овса – 1475 пудов 16 фунтов, ячменя – 1220 пудов 20 фунтов, ржи – 915 пудов 15 фунтов.
Правда, заготовка не всегда проходила гладко. Так, Чинаревский сельсовет Январцевской волости отказался дать расписку в приеме разверстки. За это по распоряжению волисполкома сельсовет в полном составе был арестован на 5 суток и «посажен на 1/4 фунта хлеба в сутки».
К 20 декабря 1920 года в губернии заготовлено 835 438 пудов мяса в живом весе (или 354 175 пудов в убойном весе), что составляло 85,1% плана продразверстки.
Куда же отправлялось это мясо?
Самарскому губпродкому отправлено 208 502 пуда в живом весе.
11 декабря в Москву отправлен первый маршрутный поезд из 31 вагона с 11 500 пудами мяса (в убойном весе). 20 декабря начата погрузка во второй маршрутный поезд из 25 вагонов.
Согласно нарядам Наркомпрода, до конца марта 1921 года отправлено 8 маршрутных поездов с 100 000 пудами мяса в убойном весе.
К 1 февраля 1921 года по продразверстке в губернии заготовлено: зерна – 1 381 503 пуда (69,01% плана), 943 918 пудов мяса (102,19%), масла и сала 7 723 пуда (300%), свинины 4 143 пуда (86,29%), птицы битой 1 525 пудов, картофеля 20 014 пудов (90,01%), капусты 4 297 п.18 ф. (24,15%).
Уже в середине марта 1921 года перед губернскими властями встала еще одна проблема. По плану, спущенному из Центра, губерния должна была засеять 300 тысяч десятин, в том числе пшеницей – 172 800 десятин, просом – 82 268 десятин, овсом – 11 800 десятин, ячменем – 5000 десятин, картофелем – 3600 десятин и «прочими культурами» – 19 032 десятины. На всю эту площадь требовалось 1 624 363 пуда семян разных культур. После засушливого 1920 года и проведенной продразверстки такого количества семян в губернии не было. «Помощь» со стороны государства выражалась в 362 000 пудах семян, забронированных по госпродразверстке и, кроме того, давался наряд на получение 35 000 пудов семенного проса в Оренбургской губернии. Более 1 200 000 пудов семян нужно было изыскивать самостоятельно.
Власти планировали собрать эти семена у населения путем ссыпки в общественные амбары или же оставлять семена на руках у владельцев под расписку. По сути крестьяне уже не являлись хозяевами собственноручно выращенного зерна. Соответственно, это вызывало с их стороны не только справедливое возмущение, но и сопротивление, которое не всегда было пассивным. По крайней мере, в течении всего марта в общественные амбары было засыпано всего лишь 25 000 пудов семян.
К 28 марта Уральским горпосевкомом взято на учет семян в коллективах и у единоличных граждан, зарегистрировавшихся на сельскохозяйственные работы в пределах города: пшеницы 212 пудов, проса 22 пуда, овса 3 пуда, ячменя 1 пуд и картофеля 159 пудов. В общем-то не густо. Думаю, земледельцы, уже наученные к этому времени продразверсткой, указывали не все наличное семенное зерно и пытались его как-то скрыть. Намного труднее было спрятать рабочий скот и сельскохозяйственный инвентарь, которых было зарегистрировано: поливных двигателей –11, чихирей – 44, рабочих лошадей – 625, верблюдов – 30, быков – 114, плугов разных – 103, борон – 315, букарей – 27 и окучников – 4.
Видимо, из-за нехватки посевного материала засев все-таки был сокращен на 800 десятин. К концу июня губернские власти все еще не имели полных данных о количестве засеянных площадей. Отмечалось, «можно утверждать, что план засева будет выполнен на 73-80%, а засеянная площадь будет составлять 140-150 тысяч десятин».
И уже в эти же дни официальные власти заявили: вследствие засухи хлеба и травы стали гореть повсюду, следовательно и этот год опять будет неурожайным. И уже в июне начали расти цены на продукты питания. По состоянию на 7 июня пуд пшеницы на рынке – недавно стоивший 80-100 тысяч рублей – уже стоил 155 тысяч рублей, пуд соленого судака 50 тыс. руб., фунт мяса – 2000-2200 руб., пуд муки – 180-200 тыс. руб., хлеб печеный в 10 фунтов – 15 тыс. руб., четверть молока – 5 000 руб., масло – 8 000 руб. фунт, яйца 7 000 руб. десяток, пуд соли – 5 000 руб.
Как это часто бывает, надвигавшийся голод сопровождался эпидемиями. В июне в Уральске вспыхнула холера, продолжавшаяся до сентября. «Красный Урал» чуть ли не ежедневно публикует данные о количестве заболевших, выздоровевших и умерших. Средняя заболеваемость в городе достигала 70 человек в сутки, средняя ежедневная смертность – 6 человек, а выздоравливали в среднем 4 человека в день. Если суммировать данные «Красного Урала», то получим цифру более 1000 умерших только в холерных бараках Уральска. Это не считая умерших на дому.
Многочисленные случаи заболевания отмечались и в сельской местности, хотя учет здесь был более слабым, чем в Уральске.
По данным той же газеты «Красный Урал», в Джамбейтинском уезде с 1 по 17 июля холерой заболело 370 человек, из них умерло 201. В Гурьевском уезде с 15 по 27 июля заболело 156, умерло 84. В Калмыковском уезде заболело 47, умерло 20. В Илекском уезде по данным на 7 июля заболело 148, умерло 56. По данным на 16 июля, по уездам губернии заболело 2505 человек, из которых 1075 умерло.
Холерные заболевания прекратились в сентябре с наступлением похолодания. Но с эпидемиями на территории губернии не было покончено. Об этом еще будет сказано.
В связи с продовольственным кризисом власти предпринимают меры к доставке хлеба в Уральск из сельской местности, при этом зачастую выкачивая у земледельцев последние запасы, обрекая их тем самым если не на голодную смерть, то на полуголодное существование. С 10 по 20 июня в упродком поступило из Волковской волости 194 п.
39 ф. пшеницы, из Александровской – 2 856 п. 57 ф., Святодуховской – 75 п., из Полтавской волости – 15 п. 21 ф. За это же время горожанами сделан самоподвоз пшеницы в количестве 106 пудов 26 фунтов.
И тогда же в 20-х числах июня, губисполком телеграфно довел до сведения Кирцентра и Наркомпрода критическое положение нашей губернии в продовольственном отношении и одновременно просил их о выполнении полностью наряда на поставку 250 тысяч пудов хлеба «для снабжения крестьянского населения губернии».
У многих возникает вопрос: а что же население поселков, расположенных на берегах многочисленных водоемов области, не спасалось от надвигающегося голода с помощью привычного рыболовства?
Еще в 1919 году газета «Яицкая правда» сообщала о действиях специальных отрядов, которые по низовым от Уральска поселкам собирали лодки, рыболовецкие инструменты и снасти «в домах, хозяева которых бежали с белыми бандами». Надо полагать, «трофеи» этих отрядов – при поголовном отступлении казачьего населения – были весьма богаты. А возвращающимся из отступления беженцам рыбачить было просто-напросто нечем. А в начале 1920 года введена государственная монополия на рыболовство не только на Урале, но и на «черных» водах. Нарушителей карали по «законам революционного правосудия» (не всегда писанным).
И лишь в конце июня 1921 года губисполком – согласно декрету Сов-наркома – отменил государственную монополию на рыболовство на р. Урал выше поселка Сарайчиковского. Рыболовство разрешалось всем гражданам Уральской губернии и производилось «по искони установившемуся бытовому порядку». Контроль за рыболовством возлагался на губземотдел и союз рыбаков.
Но далеко не все население губернии в состоянии обеспечить себя необходимым инструментом и снастями. Особенно это касалось сетей, которых нужно много. Ведь вязались они не из современных капрона или лески, которые могут находится в воде месяцами, а из простых ниток. Такие сети нужно было менять буквально через несколько дней, иначе они придут в негодность. Да и не всякую крупную рыбу они могли выдержать.
(Продолжение следует)
Автор: Сергей Калентьев