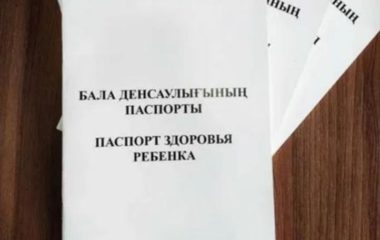Тяга к идеальному
В очередях за «дефицитом» в советские годы мне всегда не везло: именно на мне он всегда заканчивался. Единственные очереди, которые были исключениями – на престижные выставки.
Не так уж много их было, но я до сих пор горжусь, что в 1974 году, будучи проездом в Москве, мы смогли увидеть знаменитую Мадонну Рафаэля, Мону Лизу. Спасибо министру культуры Екатерине Фурцевой, которая тогда смогла договориться с Лувром, чтобы шедевр смогли увидеть советские люди. Сейчас этого счастья не понять, потому что, имея деньги, можно хоть в Париж, хоть в Рим прокатиться, а в те годы в капиталистические страны попадали лишь единицы избранных и проверенных.
Драгоценную картину доставили в Москву самолетом в специальном контейнере, который предусматривал ее сохранность в любом случае, даже если самолет взорвется или упадет. Хотя это было невероятно: в те годы даже самые обычные рейсы были безопасны, люди не боялись летать и летчикам за благополучное приземление не аплодировали, как сейчас, так как это было явлением обыденным.
В общем, очереди на Джоконду были километровые, и надежды, что мы успеем до нашего поезда на Ленинград, было мало. Но повезло, стояли недолго. На встречу с Джокондой на каждого отводилось не больше полминуты. Картина на удивление маленькая, за пуленепробиваемым стеклом – кабину изготовили на оборонном заводе. И дошедший до нас далекий свет итальянского вечера казался чудом. За полтора месяца выставку посетили полтора миллиона человек. (Это было последнее, что сделала министр культуры Фурцева для советских людей: в октябре того же года она умерла).
А в Ленинграде, в Эрмитаж, по той же программе и тоже из Лувра привезли сокровища гробницы египетского фараона Тутанхамона. И тоже как-то быстро на нее попали. (Хотя – что там сокровища фараона по сравнению с сокровищами самого Ленинграда).
А года через два в Манеже открылась выставка картин Ильи Глазунова, который часто выставлялся за границами – в Италии, во Франции, а в СССР – нет. О ней много говорили и писали. Особенно обсуждали картину «Покаяние»: стол, залитый то ли красным вином, то ли кровью, какие-то свиные рыла за этим столом, а на заднем плане портреты Толстого, Достоевского, Чехова… И перед всем этим на коленях стоит по пояс голый парень в джинсах. Кается… (Теперь мне кажется, что для зарубежных выставок она и была написана).
Как будто предчувствовал Глазунов художественным чутьем грядущую перестройку и эту потребность покаяться за все темное и кровавое, что было в нашей истории, за предательство гуманных идей тех, кто был на портретах. Но в этом призыве к покаянию была боль, которой нет у современных либералов, с их постоянным требованием за что-то каяться.
В картине отыскивали различные символы, клеймящие советскую действительность, и это добавляло выставке популярности. Я в то время сдавала сессию, а факультет журналистики МГУ – как раз напротив Манежа, и очереди на эту выставку, протянувшиеся вдоль всего Выставочного зала до библиотеки имени Ленина, мы лицезрели каждый день. И каждый день надеялись, что когда-нибудь она станет короче. И вот однажды вышли под вечер с зачета, а очереди нет. И Манеж открыт. Мы вошли, и никто нас не остановил. Ходим по залам почти в одиночестве, а потом смотрим – и сам Глазунов тут же, что-то объясняет своим спутникам. Пристроились, послушали, что он там хотел своим «Покаянием» сказать. Но он больше говорил о других работах. Там была серия его иллюстраций к Достоевскому и много портретов. Особенно потрясающие картины из серии «Блокада». Сидит мальчик с личиком старичка и смотрит в пустую тарелку на столе, на заднем плане лежащая фигура – то ли мертвого, то ли умирающего. А в углу – сгорбленная фигура за роялем. Глазунов говорил, что это картина – автобиографична. Он сам в детстве пережил блокаду, а его дядя, профессор Ленинградской консерватории за несколько дней до смерти негнущимися пальцами играл «Аппассионату».
Будущего художника спасла Дорога жизни через Ладогу, несколько лет он жил в нижегородской деревне.
У Глазунова много картин на исторические темы и иллюстраций к произведениям классиков, но все-таки больше портретов. Он создал целую галерею советских писателей и простых людей, своих современников – рабочих, колхозников, ученых.
Глазунов много ездил. В 1962-м году вместе с корреспондентом «Комсомольской правды» побывал во Вьетнаме. То, что там творилось после вторжения американцев, очень напоминало ему военные годы на родине. Его рисунки были иллюстрациями к репортажам журналиста: сожженные деревни, разрушенные статуи Будды, раненные дети. Вот хрупкая фигурка девочки, которая вынесла из горящей от напалма хижины нескольких малышей. А на глазах этой юной партизанки американские солдаты убили отца и мать. У нее детские косички, но она уже участвовала в ста боях. Больше всего Глазунова поразило, что во время войны во Вьетнаме люди продолжали работать, а дети учиться – совсем также, как в его родном блокадном Ленинграде.
Из Вьетнама Глазунов привез более 150 работ. Среди них много женских портретов.
В молодости Глазунов подражал Серову. Но у Серова в отличие от Глазунова картины наполнены светом, даже если в них чувствуется грядущая трагедия.
Этой зимой я попала на выставку картин Серова: в январе была в Москве. Несколько раз мы проходили мимо длинной очереди на Крымском валу, и, честно признаться, стоять в мороз не хотелось. Но после того, как либеральная пресса начала изгаляться про «шовинистическую ностальгию», про «совковую зависть к роскоши двора на картинах», про «истерическую тягу к искусству», про то, что и в этом тоже виноват Путин, который первым посетил выставку (ну, куда уж без Путина)… решили, что упускать такой шанс непростительно. К тому же в воскресенье, 10 января, очередь была не такой устрашающе длинной. Опять повезло…
Многие картины в разных музеях я уже видела, но в этот раз их собрали все в одно место, и это было совсем другое впечатление. Как будто пришли не на выставку, а на встречу с людьми того времени. На портретах – купцы, дворяне, крестьяне, великие актеры, писатели, врачи, меценаты, князья, цари, юноши, девушки, старики, дети.
Люди всматривались в лица на портретах, удивлялись: картины как будто святятся изнутри, а глаза на портретах – живые, испытующие. Казалось, что не столько мы смотрим на них, сколько они на нас, как будто спрашивая: какие вы, наши потомки? Народ на выставке, в основном, простой, какие мы потомки князьям и дворянам. Но ощущалась эта связь – связь времен, поколений, возвращения того ушедшего времени.
К каждой картине – пояснение: арестован, расстрелян, отправлен в ссылку, эмигрировал, дальнейшая судьба не известна. И это самое страшное. Свет, исходящий от полотен, прекрасные лица и эти cудьбы.
Вот пронизанная светом усадьбы Абрамцево «Девочка с персиками» – это Верушка Мамонтова, дочь известного мецената Саввы Мамонтова. Веселая, озорная, непоседливая. Кожа у нее такая же бархатистая, как у персиков на столе. Сквозь кожу просвечивает нежный детский румянец. На минуту присела у окна, за которым – Россия, которой скоро не станет. Но Вера до этого не доживет. В 32 года она умрет от пневмонии, оставив троих детей. Это случится за десять лет до революции. Ее мужа Александра Самарина, бывшего обер-прокурора и церковника, отправят в ссылку, где он тоже умрет.
Почти все герои полотен Серова если не умрут до революции, то потом эмигрируют или будут сосланы или уничтожены. Мы сейчас знаем об этом. Но и Серов как будто знал, и его герои – знали. Их судьба – в их глазах. Трагическое, обреченное выражение глаз последнего царя шокировало даже его современников. Как будто Николай Второй предчувствовал страшную гибель – и свою, и всей своей семьи, и самой России. Картина на выставке – копия, сделанная Серовым для себя. На той, которая находилась в Зимнем дворце, революционеры выкололи глаза, наверное, им показался невыносимым этот трагический взгляд.
Вот эти три очереди, которыми я горжусь. (Не считая очередей к театральным кассам).
Но была в моей жизни еще одна очередь – позорная.
В 2001 году мы были проездом в Москве, где в центре незадолго до этого открыли кафе «Макдональдс». Очереди к ним были километровые. Мы еще любили Америку, но даже тогда мне показалось унизительным стоять два часа за каким-то бутербродом. Но муж и сын настояли: давайте, попробуем. Не стала бы вспоминать, да режиссер Никита Михалков в своей программе зачитал недавно статью одной журналистки с «Эха Москвы», которая назвала очереди в Макдональдс «самой прекрасной, самой духовной, самой гуманистической очередью. Очередью за свободой», а саму эту забегаловку (кстати, в них уже давно нет очередей) символом этой свободы. «Нас включили в цивилизованный мир!», – ликовала эта дама, вспоминая эти первые Макдональдсы. Михалков только руками развел.
Ну, если это их мир – пусть в нем и остаются. Кому Серов, а кому – «Макдональдс». Михалков зачитал другое:
«Серов сумел написать лучшее в нас – тягу к идеальному. И не объяснишь ведь, почему народ, способный отстоять пять часов в музей на морозе, а потом еще ходить три часа по трем этажам серовского наследия – великий и непобедимый. Люблю его».
И я тоже – люблю. И Серова, и такой народ.