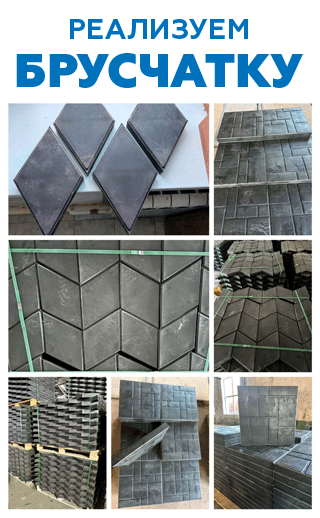Фамильный рок
 Немалое удивление послышалось мне в голосе человека на другом конце телефонного провода, когда он узнал, по какому делу его беспокоят. И уже до самого конца, в течение всего нашего не очень продолжительного разговора, как бы звучал невысказанный вопрос: «Ко мне ли это? Нет ли тут какой ошибки?» И напоследок, словно для того, чтобы еще раз развеять остававшиеся сомнения:
Немалое удивление послышалось мне в голосе человека на другом конце телефонного провода, когда он узнал, по какому делу его беспокоят. И уже до самого конца, в течение всего нашего не очень продолжительного разговора, как бы звучал невысказанный вопрос: «Ко мне ли это? Нет ли тут какой ошибки?» И напоследок, словно для того, чтобы еще раз развеять остававшиеся сомнения:
– Но ведь я не воевал с немцами. Вся моя служба, а это долгих семь лет, проходила на другом конце страны, на Дальнем Востоке. Квантунская армия – вот кто был тогда нашим противником.
Иванов – самая типичная, самая распространенная русская фамилия, и в судьбе моего героя она, как мне представляется, сыграла определенную роль. Всю свою сознательную жизнь он был связан с железнодорожным транспортом, куда пришел, только что демобилизовавшись из армии, и расстался с отраслью уже когда наступил срок выхода на заслуженный отдых. Владимир Алексеевич всегда целиком отдавался нелегкой работе, не очень-то заботясь о своем здоровье, благополучии, и теперь у него целый ряд серьезных заболеваний, которые с ним останутся, наверное, уже до конца. Некоторые из них он приобрел там, на производстве, не знавшем ни выходных, ни праздников. Громких трудовых наград у него нет, хотя в передовиках ходил постоянно. За производственные успехи много поощрялся денежными суммами, не может сейчас припомнить, сколько раз выходил победителем в социалистическом соревновании по отделению железной дороги.
– И тем не менее, – сказал обладатель типичнейшей русской фамилии, – бывало так, когда становилось немножечко обидно за себя, брала какая-то досада. Например, шел я как-то по улице со своим давним знакомым и всю дорогу его то окликнут, то подойдут, чтобы пожать руку, поприветствовать… А меня вроде как тут и не было вовсе. И почему ему столько знаков внимания, почести, думал я, чем он лучше-то меня?
– И почему так, Владимир Алексеевич? – спросил я ветерана.
– Я никогда не любил выпячиваться, выступать на собрании или где-то еще перед публикой – ни-ни! Стеснялся, что ли… Держал себя обычно в тени. – Собеседник замолк, взгляд его посерьезнел, легкая печаль легла на лицо. – С нечто подобным, – продолжил он, – мне пришлось столкнуться и за годы службы на Дальнем Востоке. Служил неплохо, стал сержантом, мне даже доверили командовать отделением, а в партию меня почему-то, в отличие от других, упорно не хотели принимать. Так беспартийным и проходил все годы… Ну теперь, по прошествии времени, я могу дать этому кое-какое объяснение.
И далее Владимир Алексеевич поведал мне о таких обстоятельствах своей долгой жизни, что я понял: это главная его боль. Боль непроходящая, проникшая глубоко в каждую клеточку его души. Сколько лет минуло с тех пор, а вот, поди ж ты, до сих пор об этом без волнения и горечи говорить невозможно. Картины давно минувшего встают с такой ясностью, будто все это было совсем недавно, вчера.
Фамилия… Фамильный рок… Он будет долго преследовать его, служить каким-то укором.
В семью Ивановых беда нагрянула в недоброй памяти 1937 году. Жили они тогда в Саратовской области, в селе Камышлак, который стоял на берегу одноименной, прятавшейся в камышовых зарослях, степной речки. Отсюда, наверное, и название населенного пункта, одного из отделений совхоза «Озерский». Глава семьи работал конюхом, и вот однажды накануне выборов в органы власти управляющий сказал ему:
– Алексей Дмитриевич, готовь лошадей. Завтра повезем людей голосовать на центральную усадьбу совхоза.
Подчиненный полушутливо парировал:
– И зачем нам переться в такую даль, аж за двадцать пять километров, зачем гонять несчастных лошадей! Да я лучше завтра с утра пораньше сам поеду и за всех земляков проголосую.
Этого было достаточно, чтобы против человека, неграмотного, ничего кроме своих лошадей больше не знавшего, выдвинули тяжелое обвинение в некоей контрреволюционной деятельности и осудили как врага народа на десять лет. Весь суд, а проходил он в Саратове, занял буквально три-четыре минуты. Срок отбывал Алексей Дмитриевич в Горьковской области, где-то в районе железнодорожной станции Сухобезводная.
Видимо, Иванов старший показал себя там, в заключении, с хорошей стороны, и его определили даже в бригадиры на лесоповал. Условия труда были тяжелейшие, а жили в промозглых бараках, где зимой волосы примерзали к шапкам.
Алексей Дмитриевич отмотал большую часть назначенного ему «тройкой» срока, и в начале 1946-го, на два года раньше, его освободили. Но до этого пройдут еще долгие восемь лет, и его родным, прежде всего жене Василисе Ивановне и трем сыновьям, предстоит в полной мере изведать горечь унижения и обид как семье врага народа.
Грянула война, и почти всех мужчин призывного возраста Камышлака и других соседних сел забрали в армию. Взрослых на производстве заменили подростки. Володе Иванову тоже нашлось дело в родном совхозе. Отец с малолетства приучал его к труду, и мальчик, который являлся средним сыном в семье, был его помощником в конюшне: он охотно принимал участие в уходе за лошадьми, умел запрягать их, а когда Алексею Дмитриевичу нужно было поехать куда-нибудь по делам, просился с ним в дорогу.
В войну все эти заботы пришлось взвалить на свои плечи, они, плечи эти, у Володи Иванова были не ахти какие: он был мальчиком небольшого роста, довольно хрупкого телосложения, и кое-кто из односельчан, окидывая его скептическим взглядом, сильно сомневался, что он справится там, где до этого трудились взрослые мужики. И тем не менее юноша уверенно впрягся в работу. Ему даже доверили такое серьезное дело, как регулярную доставку сливок в райцентр Озинки, находившийся в пятидесяти километрах. «Озерский» был хозяйством молочного направления, и то, что обычно надаивалось на местных фермах, в немалых количествах шло на выработку сливочного масла. Но так как данное производство находилось только в Озинках, то сырье, то бишь сливки, отправлялось на подводах именно туда, в районный центр.
В декабре 43-го Иванова и еще шестерых его сверстников из Камышлака, таких же, как и он семнадцатилетних безусых пацанов, призвали в армию. Им сразу сказали, что служить им выпало на Дальнем Востоке. До места назначения добирались более двух недель эшелоном из грузовых вагонов, наспех переоборудованных под теплушки. Что запомнилось? Страшный холод и постоянное чувство голода, которое то усиливалось, то ослабевало, в зависимости от того, где они проезжали. Дело в том, что новобранцев кормили лишь на очень крупных станциях, во всех же остальных случаях они, бедные, должны были рассчитывать лишь на себя. Хорошо хоть почти каждый взял с собой из дома в дорогу кое-какие съестные припасы, у некоторых были даже деньги. Они выбегали из вагонов на тех станциях, где поезд останавливался, и второпях покупали у базарных торговок какую-нибудь нехитрую снедь. Но все эти запасы скоро у многих кончились и пришлось парням потуже затягивать пояса.
Чувство голода, может быть, было бы не столь острым, мучительным, если бы не страшный холод, который все время сопровождал двигавшийся на восток воинский эшелон. Приходилось постоянно поддерживать огонь в «буржуйке», стоявшей посреди вагона. Дрова запасали сами, на них чаще всего шли деревянные щиты, тянувшиеся вдоль путей.
Помимо основной обязанности – обогревать теплушку – дежурному вменялось также, чтобы на корню пресекать попытки дезертирства среди призывников, если бы кто-нибудь из них вздумал ночью покинуть спящий вагон. Но ни разу за весь долгий путь ничего подобного не произошло.
В Челябинске у них была продолжительная остановка. Призывников покормили в столовой, располагавшейся неподалеку от вокзальных строений. Был такой жгучий мороз, что даже птицы в тот день не летали. Уж на что воробьи, этот веселый и выносливый пернатый народ, и те сидели нахохлившись на земле. Парни подходили к ним и брали в руки, терпеливо отогревали и потом пришедших немного в себя птах отпускали на волю.
Кое-кто из редких прохожих замедлял шаги и смотрел на новобранцев, еще даже не сменивших свою старую гражданскую одежду на военную форму, такими глазами, как если бы перед ними были дети, увлекшиеся странной игрой.